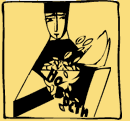Сегодня наша передача посвящена памяти Анны Андреевны Ахматовой. Сегодня вы услышите записи голоса самой поэтессы. Передачу ведет Леонид Кутсар.
Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Читает автор.
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.
Сохранить такие стихи в доме, где шел обыск за обыском - в 1935 году был арестован муж Анны Ахматовой, известный искусствовед Николай Пунин. Потом ее сын - Лев Гумилев, в то время студент ленинградского университета. В городе, где одна квартира пустела за другой, можно было только одним способом держать стихи - в памяти. Ахматова так и поступила, не доверяя бумаге ни одной крамольной строки. Впрочем, в 1940 году ей удалось обмануть бдительность надзирающих органов, и одно из стихотворений цикла «Приговор» было опубликовано. Разумеется, Ахматовой сняла само название, поставила под стихотворением заведомо неверную дату написания, и цензура, да и подавляющее большинство читателей восприняли его как рассказ о некой давней любовной драме, разрыве, уходе возлюбленного. И только самые близкие знали, что речь идет не о любовном объяснении, а о судебном приговоре.
И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
Стихи 1935-го - 1940-х годов, составившие цикл «Реквием», создавались Ахматовой не столько как произведение искусства, а скорее, как дневник, сначала свой, личный, потом наш, общий.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
Одна из первых среди наших писателей, она осознала и с величайшей художественной силой выразила исторический масштаб и значение происходивших тогда трагических событий. В своем скорбном «Реквиеме» она, кажется, даже отметила тот момент, когда в молчаливой тюремной очереди пришло к ней то осознание и непреклонное решения выразить его.
«…стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».
Это подобие улыбки невольной подруги окончательно скрепило договор между поэтому и его народом. Не написать «Реквием» Ахматова уже не могла. Мы можем теперь услышать, как твердо и внятно выговаривает Ахматова своё обещание, произнесенное когда-то шепотом в тюремной очереди. Это прозаическое вступление звучит в ее чтении торжественно, ритмично, она произносит его даже несколько нараспев, и каждое слово в звучании ахматовского голоса как бы укрупняется, делается особенно значительным. Автобиографическая справка превращается в скульптурно отточенную драматическую сцену.
Анна Ахматова: «Реквием» 1935-1940-й годы.
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,-
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Вместо предисловия
В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.
Посвящение
Перед этим горем гнутся горы,
Не течет суровая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат -
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.
ВСТУПЛЕНИЕ
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
1
Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.
2
Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
3
Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.
4
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей -
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука - а сколько там
Неповинных жизней кончается...
5
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.
6
Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.
7
ПРИГОВОР
И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.
8
К СМЕРТИ
Ты все равно придешь - зачем же не теперь?
Я жду тебя - мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, -
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.
9
Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.
И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.
И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):
Ни сына страшные глаза -
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,
Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук -
Слова последних утешений.
10
РАСПЯТИЕ
Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сущу.
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
ЭПИЛОГ
I
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.
II
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем - не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
Среди нескольких надежных друзей, которым Ахматова доверила «Реквием», с тем же условием – не записывать на бумагу ни строчки, а держать его в памяти, была писательница Лидия Чуковская, автор повести «Софья Петровна», созданной в те же годы и тоже опубликованной лишь недавно. В своем дневнике она записала в январе 1940 года после встречи с Ахматовой: «Длинный разговор о Пушкине: о Реквиеме в «Моцарте и Сальери». Мирно и уютно потрескивала печка». Много позже Чуковская так разъяснила эту запись: «Пушкин ни причем. Это шифр. В действительности, Анна Андреевна показала мне в тот день свой на минуту записанный «Реквием», чтобы проверить, все ли я запомнила наизусть. Когда я запомнила все стихи, Анна Андреевна сожгла их в печке». Было их тогда девять или десять стихотворений. Казалось бы, совершенно разномасштабны они непостижимым образом обретали постепенно все большее единство. Они говорили не только об унижении, ужасе и горе, но и о силе человеческого духа, о мужестве женщины и поэта. «Небывалой стенограммой небывалой боли и небывалого подвига» называет сегодня ахматовский «Реквием» известный литературовед и философ Карякин. И справедливо утверждает, что этим произведением Анна Ахматова первая воздвигла памятник всем жертвам беззаконий еще в момент торжества этих беззаконий и что он воздвигнут навечно. Как и всякое великое произведение, ахматовский «Реквием» воспринимается сегодня не только как произведение, рассказывающее о прошлом и созданное в прошлом, но и как произведение нашего времени, удивительно актуальное, ибо оно утверждает столь характерное для сегодняшнего дня ощущение неизбежности торжества исторической справедливости. Впервые прозвучат здесь и несколько новых строк «Поэмы без героя» и некоторые песенки в той или иной степени связаны с темой Реквиема.
Анна Ахматова: Место действия – Фонтанный дом. Время – январь 1941 года. Автор говорит о Поэме 1913 год и о многом другом.
«Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон…
И ворчал: «Там три темы сразу»!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен.
Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, -
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?»
Я ответила: «Там их трое -
Главный был наряжен верстою,
А Другой как демон одет, -
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались,
Третий прожил лишь двадцать лет,
И мне жалко его». И снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел.
И над тем флаконом надбитым
Языком кривым и сердитым
Яд неведомый пламенел.
А во сне все казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон – это тоже вещица,
Soft embalmer, Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет.
И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Пронесется, как хлопья дыма,
Пронесется сквозь сумрак хвой.
Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро -
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.
Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.
…
И проходят десятилетья,
Воин и смерти рожденье – петь я,
Сами знаете, не могу.
…
Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит – Судьба.
…
И была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут.
Бес попутал в укладке рыться…
Ну, а как же могло случиться,
Что во всем виновата я?
Я - тишайшая, я - простая,
«Подорожник», «Белая стая»…
Оправдаться… но как, друзья?
Так и знай: обвинят в плагиате…
Разве я других виноватей?
Впрочем, это мне все равно.
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу…
У шкатулки ж тройное дно.
Чтоб сюда из чужого века
Незнакомого человека
Дерзко глянули бы глаза,
Чтобы он мне, отлетевшей тени,
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.
Любопытно услышать нам подлинное звучание таких же полузабытых или незнакомых слов, как ландо, кроки, и, что, пожалуй, самое неожиданное и примечательное, если говорить о звучании стихов - это призрачное присутствие в голосе Ахматовой интонации поэтического чтения Николая Гумилева, когда она читает стихотворение «Царскосельская ода». Только услышав это чтение и сравнив его с сохранившимися записями голоса Гумилева, можно понять, насколько неслучаен один из эпиграфов к этому стихотворению - строка из гумилевского «Заблудившегося трамвая».
Анна Ахматова: «Царскосельская ода», безымянный переулок.
«Ты поэт местного, царскосельского значения» Николай Пунин
«А в переулке забор досчатый…» («Заблудившийся трамвай»)
Настоящую оду
Нашептало… Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Тёмник, не Шуя -
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск - Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая…
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот царственный мир…
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.
Любительские, технически не совершенные записи, сделанные при различных обстоятельствах, в разное время, но дело не только, и даже не столько в несовершенстве звучание, но, прежде всего, в том, что большинство из представленных произведений настолько значительны, что почти каждый из них требует особого внимания и отдельного прослушивания. Неслучайно сама Ахматова почти никогда не читала много стихотворений подряд, обычно ограничивала свое чтение двумя-тремя. Есть и вовсе редкие, такие, как записи раннего стихотворения «Любовь» и фрагменты стихотворной лирическая драмы «Пролог, или Сон во сне», которые Ахматова писала в 1943-ем-1944-м годах в Ташкенте, и история которой нам до сих пор не совсем ясна.
Анна Ахматова: Из трагедии «Пролог, или Сон во сне»
Она говорит:
Никого нет в мире бесприютней
И бездомнее, наверно, нет.
Для тебя я словно голос лютни
Сквозь загробный призрачный рассвет.
Ты с собой научишься бороться,
Ты, проникший в мой последний сон.
Проклинай же снова скрип колодца,
Шорох сосен, черный грай ворон,
Землю, по которой я ступала,
Желтую звезду в моем окне,
То, чем я была и чем я стала,
И тот час, когда тебе сказала,
Что ты, кажется, приснился мне.
И в дыхании твоих проклятий
Мне иные чудятся слова:
Те, что туже и хмельней объятий,
А нежны, как первая трава.
Он говорит:
Будь ты трижды ангелов прелестней,
Будь родной сестрой заречных ив,
Я убью тебя моею песней,
Кровь твою на землю не пролив.
Я рукой своей тебя не трону,
Не взглянув ни разу, разлюблю,
Но твоим невероятным стоном
Жажду наконец я утолю.
Ту, что до меня блуждала в мире,
Льда суровей, огненней огня,
Ту, что и сейчас стоит в эфире, -
От нее освободишь меня.
Третий голос:
Что нам разлука – лихая забава,
Беды скучают без нас.
Спьяну ли ввалится в горницу слава,
Бьет ли тринадцатый час.
И весь забытый, забитый, за… кто там?
Так научился стучать
Вот и идти мне обратно, к воротам,
Новое горе встречать.
Слышно издалека:
Лаской страшишь, оскорбляешь мольбой,
Входишь без стука.
Все наслаждением будет с тобой -
Даже разлука.
Пусть разольется в зловещей судьбе
Алая пена,
Но прозвучит как присяга тебе
Даже измена...
Той, что познала и ужас и честь
Жизни загробной...
Имя твое мне сейчас произнесть -
Смерти подобно.
1963
Песенка слепого:
Не бери сама себя за руку...
Не веди сама себя за реку...
На себя пальцем не показывай...
Про себя сказку не рассказывай...
Идёшь, идёшь - и споткнешься.
1942
Темы памяти и тема верности друзьям, звучащая во многих стихах Ахматовой и обычно связанная с ее раздумьями о предназначении и судьбе художника, возникает и в заключающем выступлении на юбилейном вечере Данте в Большом театре осенью 1965 года. «Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освещенных тем же великим именем», - сказала тогда Ахматова и закончила выступление чтением стихотворения 1936 года «Данте». Особенно примечательным, мне кажется теперь то, что в кратком слове, произнесенном в столь торжественной обстановке она сочла необходимым сказать о трех своих друзьях и современниках, для которых Данте всегда был величайшим и недосягаемым учителем – о Гумилеве и Мандельштаме. А ведь тогда ее оценки этих поэтов были еще далеко не общепризнанными. Желание воздать должное своим друзьям, замечательным художникам, еще раз утвердить свое понимание высокого назначения и трагической судьбы поэта в мире подвигло Ахматову на произнесения этой речи, которая, как мы можем почувствовать, слушая запись, далась ей совсем не легко. Это было ее последнее публичное выступление.
Анна Ахматова: Я счастлива, что в сегодняшний торжественный день могу засвидетельствовать, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого гения человечества - Шекспира на знамени, под которым начиналась моя дорога. И вопрос, который я осмелилась задать Музе, тоже содержит это великое имя - Данте.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
1924
Для моих друзей и современников величайшим недосягаемым учителем всегда был суровый Алигьери. И между двух флорентийских костров Гумилев видит, как
Изгнанник бедный Алигьери
Стопой неспешной сходит в ад.
(«Флоренция», 1913)
А Осип Мандельштам положил годы жизни на изучение творчества Данте, написал о нем целый трактат «Разговор о Данте» и часто упоминает великого флорентийца в стихах:
С черствых лестниц, с площадей
С неуклюжими дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами
1933
Подвиг перевода бессмертных терцин «Божественной Комедии» на русский язык победоносно завершил Михаил Леонидович Лозинский. Эта работа была в моей стране высоко оценена критикой и читателями.
Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освещенных тем же великим именем:
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, -
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, нежной, долгожданной...
1965
(Данте. Чистилище. XXX. 31-33. Перевод М. Лозинского).
Лев Шилов: «Мне довелось записывать на пленку записывать на пленку чтение многих литераторов. Вот уже четверть века это несколько странное занятие являться моей основной профессией. Но, кажется, что с того памятного дня, когда я однажды записывал Анну Ахматову, мне уже никогда не приходилось иметь дело с поэтом, который бы так ясно представлял себе, что читает стихи не только собеседнику, не только тому, кто сейчас сидит перед ним с микрофоном и не только тому, кто, допустим, через неделю-другую будет слушать эту запись по радио или через год-другой с пластинки, но читает для многих и многих поколений. Чувство будущих читателей, будущих слушателей было у Ахматовой очень сильно. Она верила, знала, что ее голос будет услышан».
Анна Ахматова:
«При непосылке поэмы»
Приморские порывы ветра,
И дом, в котором не живем,
И тень заветнейшего кедра
Перед запретнейшим окном…
На свете кто-то есть, кому бы
Послать все эти строки. Что ж!
Пусть горько улыбнутся губы,
А сердце снова тронет дрожь.
1963