Священномученик Игнатий, епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии (в миру Сергей Сергеевич Садковский) родился 21 октября 1887 года в г.Москве в семье священнослужителя.
Отец его, протоиерей Сергий Максимович Садковский, служил в Петропавловской церкви на Новобасманной, а затем еще в церкви Святой Софии на Лубянке. В 1901 году Сергий Садковский окончил духовное училище при Заиконоспасском монастыре в г. Москве. По окончании училища он поступил в Московскую Духовную семинарию, которую закончил в 1907 году, и в этом же году поступил в Московскую Духовную академию. Обучаясь в Академии, 11 декабря 1910 года пострижен в монашество с именем Игнатий, в честь священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. 23 января 1911 года монах Игнатий был рукоположен во иеродиакона. Выбор его монашеского имени был не случаен. Он глубоко изучил духовное наследие и благоговейно почитал память святителя Игнатия (Брянчанинова), который в монашестве тоже носил имя в честь священномученика Игнатия Богоносца. Также неслучайно, что по окончании в 1911 году Московской Духовной академии иеродиакон Игнатий (Садковский) на соискание степени кандидата богословия представляет работу «Преосвященный Игнатий (Брянчанинов) и его аскетические воззрения», которую он успешно защищает и 26 июня 1911 года получает степень кандидата. Впоследствии он стал автором еще нескольких статей о жизни и творениях святителя Игнатия (Брянчанинова).
31 июля 1911 года иеродиакон Игнатий был рукоположен во иеромонаха и с 7 августа того же года назначен преподавателем Томской Духовной семинарии. Но в Томске он пробыл недолго и 5 ноября 1911 года был переведен в Московскую Духовную академию на должность помощника библиотекаря, где и пребывал до 1918 года.
Страна все больше и больше погружалась во мрак смуты и безверия под лозунгами всемирного светлого будущего. В сложившихся обстоятельствах тому, кто от юности носил в сердце своем Бога и принял в земной жизни ангельский чин, приличнее всего было усилить подвиги в монашеском делании. Согласно прошению, поданному иеромонахом Игнатием 1 января 1918 года, он уволился из МДА и определился насельником Смоленской Зосимовой пустыни во Владимирской губернии. В монастыре он прошел школу высокой духовной жизни, пребывая в послушании у зосимовского старца иеросхимонаха Алексия (Соловьева).
Старец утвердил в ученике многие монашеские добродетели: откровение помыслов, послушание с полным отсечением своей воли, непрестанное творение Иисусовой молитвы и др. Старец-затворник иеросхимонах Алексий (Соловьев) был по избрании от монашества членом Всероссийского Поместного Собора 1917 -1918 гг. Он вынул жребий на Патриаршество митрополиту Московскому и Коломенскому Тихону (Белавину). Видя высоту духовного совершенствования иеромонаха Игнатия, старец Алексий благословил ему быть, по просьбе наместника, духовником братии Московского Свято-Данилова монастыря.
5 апреля 1920 года он был хиротонисан во епископа Белевского, викария Тульской епархии. 1922 года вернул себе управление Тульской епархией, но, по наветам недоброжелателей и ввиду лившихся гонений на традицией Православную Церковь, 2 января 1923 года был арестован и осужден на три заключения в концлагерь. С 1923 по 19Л год он находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения, где в то время находились многие невинно осужденные архипастыри и клирики, будущие новомученики Русской Православной Церкви. Еще будучи помощником библиотекаря МДА, епископ Игнатий был в теплых дружеских отношениях с тогдашним инспектором Академии архимандритом Иларионом (Троицким). В 1920 году архимандрит Иларион также был возведен на высшую ступень пастырского служения, хиротонисан во епископа Верейского. И вот, в 1923 году бывшие сподвижники по академическому послушанию, теперь уже оба епископы, встретились в заключении на Соловках, где началось их восхождение на свою Голгофу. Святой священномученик и Иларион (Троицкий) писал в те времена: «Горела Церковь в пламени мучений кровавых гонений, но в то же время лишь росла и крепла, - разве нужно еще более ясного знамения того, что неразлучно в ней пребывает Своими благодатными силами Господь Бог».
В июле 1926 года они принимали непосредственное участие в составлении «Соловецкого послания» - обращения православных епископов из Соловков к правительству СССР. В декабре 1926 года епископ Игнатий отбыл срок заключения. После освобождения, по некоторым данным, пребывал в одном из северных монастырей в течение трех лет, а когда вернулся в Тульскую область был вновь арестован в г. Белеве 26 декабря 1929 года и особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР 3 февраля 1930 года осужден на три года концлагеря. В этот раз епископа Игнатия сослали в Северный край в г. Котлас, где он пребывал в Кемском лагере до 9 сентября 1932 года. В протоколе допроса февраля 1936 года читаем: «По окончании наказания – в начале 1933 года я приехал в гор. Москву и явился в Патриархию за назначением, и через несколько дней получил назначение от митрополита Сергия Страгородского поехать в г. Скопин на должность викарного епископа Рязанской епархии. Получив это назначение, я выехал к месту своего служения в гор. Скопин, где проживал и служил епископом до настоящего времени». Назначение это состоялось 3 февраля 1933 года. Правящим архиереем Рязанской епархии тогда был священномученик Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский и Шацкий, который, с радостью встретил нового викария. С ним он был знаком еще с дореволюционных лет, Владыка Игнатий уже был его викарием в бытность его епископом Тульским. Вместе они были и в Соловецком лагере.
Из протокола допроса Владыки Игнатия:
- Давно ли Вы знакомы с архиепископом Иувеналием? -
- Я знаю его с дореволюционного времени... С 1920 по 1922 год я был викарным епископом в Белеве и находился в непосредственном его подчинении, управлявшего в то время Тульской епархией.
В 1923 году органами ОГПУ я был арестован и направлен для отбытия заключения в Соловецкий концлагерь, куда в скором времени прибыл и епископ Иувеналии, также для отбытия наказаниями Соловках я неоднократно его встречал.
В 1926 году, по окончании срока, я выехал из Соловков в Москву, а епископ Иувеналий остался там, и снова я его встретил в Рязани.
Находясь в непосредственном у него подчинении я четыре раза ездил к нему Рязань с докладами по епархии.
- Какие контрреволюционные разговоры проводили Вы с Иувеналием Масловским на его квартире?
- Это ложь... В беседах с архиепископом Иувеналием я никогда никаких контрреволюционных разговоров не вел.
- Ваши политические взгляды и отношение к советской власти?
- К советской власти я отношусь лояльно, но как верующий не могу сочувствовать советской власти в вопросах ее отношения к Православной Церкви, в частности, к насильственному закрытию и разрушению храмов, хотя и считаю это Волей Божией за грехи верующих, которые достойны этого.
- Что Вы преследовали объединением вокруг себя возвратившихся из ссылки контрреволюционно настроенных попов и монахов?
- Никакого объединения возвращавшихся из ссылки священников и монахов меня не было. Отказывать им в назначении, как и всем прочим, я не имел права потому что означенные лица имели на руках все... полагающиеся документы.
- Признаете ли Вы себя виновным в предъявленных Вам обвинениях по ст-58,пп. 10, 11 УК?
- В предъявленных обвинениях виновным себя не признаю.
2 марта 1936 года между епископом Игнатием и архиепископом Рязанским и Шацким Иувеналием была проведена очная ставка. Вопрос архиепископу Иувеналию:
- Каковы взаимоотношения у вас с епископом Игнатием Садковским?
Епископ Игнатий был моим викарием. Взаимоотношения между нами дружеские.
Вопрос епископу Игнатию:
- Подтверждаете ли Вы показания Масловского о ваших взаимоотношениях?
- Показания подтверждаю. Взаимоотношения между нами были нормальные. Я считаю архиепископа Иувеналия своим духовным отцом и наставником
Вопрос архиепископу Иувеналию:
- Изложите содержание контрреволюционных разговоров, проводимых Садковским при встречах с вами?
- Епископ Игнатий Садковский при встречах со мной контрреволюционных разговоров не вел. Приезжая ко мне, он говорил, что идет массовое закрытие церквей. В сельской местности Скопинской епархии большое количество церквей закрывали под склады хлеба.
Вопрос архиепископу Иувеналию:
Что говорил Вам епископ Садковский о будущем Православной Церкви СССР?
- Он ставил вопрос как быть, если все церкви будут закрыты. На это я чал что об этом преждевременно говорить - хоть одну или две церкви нам оставят.
Вопрос епископу Игнатию:
- Подтверждаете ли Вы показания Масловского?
- Показания подтверждаю, но я касался только церквей, которые находятся в Скопине».
Так и случилось: в Рязани осталась служить всего одна церковь.
По прибытии на Скопинскую кафедру епископ Игнатий поселился у супругов Синельниковых по адресу 1-я Новая улица, дом 9. Келейницей его в то время была монахиня Ирина (Комарова) из гор. Белева Тульской области, где когда-то епископ Игнатий был викарием. После первого осуждения в 1923 году он оставил у нее на хранение свое архиерейское облачение, которое теперь она, по просьбе епископа, привезла в Скопин и по его же просьбе осталась здесь на послушание. В эти же годы к епископу Игнатию в Скопин устремляются многие священники и монахи, вернувшиеся из заключения и из ссылок. Он сам, дважды прошедший все ужасы концлагерей, старался не только утешить их, но и, по возможности, определить на приходское служение. Так, он принял и назначил на приходы возвратившихся из ссылок и концлагерей священников Иоанна Кормилина, Николая Никандрова, Николая Петрова, иеромонаха Макария (Кобякова) и др.
13 августа 1933 года священномученик Игнатий участвовал в хиротонии своего младшего брата архимандрита Георгия во епископа Камышинского, викария Саратовской епархии. До этого архимандрит Георгий служил в Благовещенском храме г. Касимова. Владыка Георгий трижды арестовывался и был судим. Первый раз отбывал срок 1925 по 1928 г. вместе с братом священномучеником Игнатием в Соловецком лагере особого назначения. 10 июля 1947 года епископ Георгий был назначен епископом Порховским, викарием Псковской Пархии. Это было последнее место его архиерейского служения. 4 мая 1948 года скончался на покое в Псково-Печерском монастыре.
После волны репрессий в отношении духовенства у новой власти появился один из веских поводов для закрытия приходских храмов - отсутствие священника. Архиепископ Иувеналий и его викарий епископ Игнатий восполняли это тем, что сразу же старались направить возвращавшихся пастырей на приходы, что естественно, благотворно сказывалось на состоянии Рязанской Церкви. Скопинский Владыка старался сохранить оставшееся священство и тем, что рекомендовал даже в случае закрытия храма не вступать настоятелю в противостояние властям. Из протокола допроса от 14 февраля 1936 г.: «… тем священникам, которые сообщали мне о закрытии храмов в их приходах и просили мои указаний, я говорил, что вопрос о храмах - это дело не священников а исполнительных органов - церковных советов». Эта деятельность рязанских архиереев то время шла вразрез с тем, чего добивалась власть «всеобщего равенства и братства».
22 января 1936 года в Рязани был арестован архиепископ Рязанский и Щацкий Иувеналий, а через неделю, 30 января, арестован епископ Скопинский Игнатий и заключен в Скопинскую тюрьму.
В обвинительном заключении епископу Игнатию вменялось в вину то «что в Скопинском районе Московской области существует контрреволюционная группировка духовенства и церковников, во главе с епископом Игнатием Садковским. Большинство участников группировки - попы и монахи, за свою к/р деятельность подвергались репрессиям - ссылкам и заключению в ИТЛ, которые по отбытии наказания приезжали в Скопинский район и епископом Игнатием Садковским определены на приходы. Будучи к/р настроенными, все участники группировки проводили среди населения систематическую антисоветскую агитацию, распространяли всевозможные к/р слухи, привлекали к церкви молодежь, которую обрабатывали в а/с духе, втягивая их в тайное монашество».
В протоколе допроса от 14 февраля 1936 года есть строки, характеризующие епископа Игнатия как твердого и стойкого, несломленного тюрьмами исповедника веры и убежденного борца против гонений на Церковь.
«Вопрос: Ваши политические взгляды и отношение к советской власти?
Ответ: К советской власти я отношусь лояльно, но как верующий не могу сочувствовать мероприятиям соввласти в вопросе отношения се к Православной Церкви, в частности, к насильственному закрытию и ликвидации монастырей, закрытию и разрушению храмов, хотя и считаю это Волей Божией за грехи верующих, которые достойны этого».
На обвинение в организации контрреволюционной группировки он отвечал следующее: «Никакого объединения возвратившихся из ссылки священников и монахов у меня не было. Отказать им в назначении, как и всем прочим священнослужителям я не имел права, потому что означенные лица имели для сего на руках, как полагающиеся гражданские, так епархиальные документы.
В конце следствия был задан последний, традиционный и юридически необходимый вопрос, признает ли он себя виновным. Епископ Игнатий ответил: «В предъявленном мне обвинении по ст. 58 п. 10 и 11 Уголовного Кодекса виновным себя не признаю». Несмотря на это и на очевидную неубедительность обвинений, епископ Скопинский Игнатий 3 февраля 1936 года был из Скопинской тюрьмы переведен в Московскую Бутырскую тюрьму, а 16 марта 1936 года Особым Совещанием при НКВД СССР осужден на пять лет ссылки в Северный край. Через неделю, 23 марта, он был отправлен по этапу в г. Архангельск в распоряжение УНКВД по Севкраю. В ссылке епископ Игнатий жил на Кегострове г. Архангельска. 3 августа 1937 года вновь был арестован как «участник к/р группы церковников» и постановлением «тройки» УНКВД осужден на десять лет концлагеря.
9 февраля 1938 года в Кулойлаге священномученик и исповедник Игнатий (Садковский), епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии, скончался в заключении.

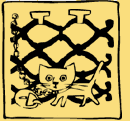
меню
Житие священномученика Игнатия (Садковского)






