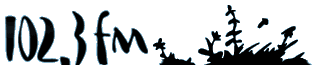В Москве завершился фестиваль, посвященный 100-летию дадаизма. 10 дней в Государственном центре современного искусства шли интереснейшие лекции, дискуссии, обсуждения. Об одной из таких встреч мы расскажем сегодня в нашей программе.
Во вторник 14 июня на фестивале «ДАДА» состоялся разговор двух больших умов — философ, композитор, автор книг #Владимир Мартынов был приглашен на встречу с историком искусства Кети Чухров. Кети Чухров – доктор философских наук, доцент кафедры всеобщей истории искусства РГГУ и ведет в #ГЦСИ программу «Теоретические исследования по культурной антропологии». Дискуссия с Владимиром Мартыновым проходила в рамках исследовательского проекта стартовавшего в этом году – «Контексты перфомативности».
Кети Чухров на правах организатора беседы задала своему гостю Владимиру Мартынову три вопроса, поясняя их небольшими отступлениями.
Кети Чухров: Первое — это отказ от партитуры, отказ от сочиненного текста. Многие практики современного искусства, в том числе и современного театра, отказываются от какой-либо партитуры и текста. От композиции в сове время радикально отказался и авангард, и модернизм. Это объясняется отрывом от мимесиса и движением к автопоэсису. То есть именно к тому, чтобы занять место в реальности, совершить интервенцию в реальность, а не изображать или чувственно переживать ее. И, исходя из того, что Владимир Иванович, например, настаивает на том, что вот это не-композиторское бытие музыки, не-композиторское бытие искусства предполагало не изображение реальности, а пребывание в реальности, вот это благо пребывания в ней, можно ли сказать, что авангардный или постмодерный, или радикальный художник, который имеет такую же претензию, входит в реальность, чтобы быть в ней, а не миметически изображать ее, он делает тоже самое, что какой-нибудь средневековый живописец или композитор. Или здесь речь идет, в случае сегодняшнего художника, о некой симуляции. Ведь в данном случае, в современном случае, отказ от изображения реальности или переживания реальности, скорее служит процессом демократического участия, а не возвращения к бытию. Это первый вопрос.
Второй вопрос о партитуре. Так как этот вопрос о композиции и партитуре ставил, например, Ежи Гротовский. Я все время привожу пример Ежи Гротовского, когда мне многие люди из театра говорят о том, что вот текст должен отсутствовать. И score – то, что называется, партитура для актера не имеет значения. Он, напротив, настаивал на вот этой записи. Пусть это иероглифы, пусть это какие-то знаки, но нужна подготовленность, чтобы что-то исполнить, даже прийти к какой-то сакральности, нужно подготовиться. А эта подготовленность нуждается в некой предварительной записи, может быть это не текст? Что это? Через что осуществляется вот эта очень скромная и дотошная подготовленность исполнителя в случае Гротовского.
И третий вопрос в некотором смысле повторяет первый. Вот это переживание реальности (это вопрос к Владимиру Ивановичу), почему мы должны считать, что это субъект, ведь классические художники, которые ее так страдательно изображали, Достоевский, Гоголь, Платонов, взять художников авангарда: Введенский, не говоря уже о музыке — Бах, Бетховен, Моцарт, ведь они совершали некий труд души, некое усердие. Они испытывали то страдание, которое имеет место в реальности, как бы переводя это электрически и практически на себя. То есть они были не равнодушны. Они как раз не были вот этими суверенными субъектами, в отличие от модернистского творца субъекта, который более равнодушен, он как бы cool, а классический художник не cool. И вот, вот эта карта. Наверное, с нее и можно начать, и передать слово Владимиру Ивановичу.
RadioBlago: Прежде чем ответить на предложенные вопросы, Владимир Мартынов кратко обозначил свою позицию относительно истории развития культуры и цивилизации. Мы предлагаем вашему вниманию отдельные краткие выдержки из вступительной речи, произнесенной Владимиром Мартыновым.
Владимир Мартынов: Вообще и сам принцип композиции появился в определенный этап истории. В определенный этап он исчез, и тут возникает вопрос, почему так происходит. Тут надо сказать, что происходит так потому, что время не равномерно. Вот это мы как-то не очень хотим понять и не очень с этим миримся. Мы понимаем, что пространство не равномерно, в том смысле, что есть хорошее пространство и есть отвратительное пространство, где невозможно ничего делать. И сам факт эмиграции подтверждает это. Совершенно то же самое можно сказать и про времена. Потому что времена тоже есть, благодатные и хорошие времена, и собственно говоря, времена, где ничего невозможно сделать. То есть вот мы думаем, а почему бы не сделать тоже что-то подобное Толстому, Достоевскому или Бетховену, а потому что это невозможно по определению. Сейчас мы попробуем даже разобраться, почему это происходит. Вообще-то вот эта идея неравномерности времен, она далеко не новая, это, может быть, одна из самых древних идей, она существует и в Индии, и в греческой культуре. Это четыре века — золотой, серебряный и так далее. Или четыре юги, каждая из последующих все хуже и хуже, причем они становятся хуже принципиально, то есть ухудшается сама субстанция мира, ухудшаются атомы, ухудшаются молекулы, ухудшается временно-пространственный каркас. И уже надо говорить о разных видах человека. То есть нам кажется, что это единый человек с единым сознанием, а на самом деле это разные подвиды, скажем так помягче. Поэтому то, что возможно было делать в какое-то определенное время, это уже не возможно ни повторить, ни даже осмыслить, приблизиться к этому в следующие времена.
Здесь я предлагаю такую вот схему со времен рождения Христианской западно-европейской цивилизации, которая сначала не была западно-европейской, скорее она была зарождена, как называется, в сирийско-египетском углу, в Византии, в этом районе. Надо сказать такую вещь, что, вообще-то, если мы возьмем христианскую доктрину понимания истории, но она весьма далека от оптимизма. Христос сказал: но Сын Человеческий пришед во второй раз, найдет ли веру на земле? То есть, в принципе, во Второе пришествие вот по мысли Христа уже веры быть не может. И мы это прекрасно видим в иллюстрации «Несения Креста» у Босха, последняя его картина. Это гентское Несение креста, где Христа окружают уже не столько человеческие лица, сколько звероподобные такие оскалы. Здесь вместе с этим бытовал еще такой ужас неприятия истории, истории как нечто вредное. И мы видим, что тоже и в Послании Апостола Иоанна Богослова «Дети, последнее время!». Это сказано в первом веке нашей эры. В каком смысле «последнее время»? Потому что здесь надо понять, как понимали Новый завет первый христиане. Вот эти слова Апостола Павла «Кто во Христе, Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Причем эта новизна, ослепительная новизна, новее которой не может быть ничего, никакой истории. Поэтому это уже был конец, это было «последнее время», потому что уже ничего нового принципиально после того, как человек стал «Новой тварью во Христе», от него только требовалось одно — вот нести эту новизну и не утрачивать ее. И поэтому, если мы вспомним, чем кончается Апокалипсис, Ведением Небесного Иерусалима и последние слова: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». То есть при этом, естественно, никакой истории быть не может. Это ожидание Второго пришествия, причем экстатическое ожидание: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». В принципе, в таком порыве, в таком напряжении, в таком полете человек и человечество вообще не может, конечно, удержаться, оно постепенно начинает утрачивать этот импульс. Вся история может рассматриваться как прогресс и становление каких-то новых и замечательных вещей, а может рассматриваться как регресс. И регресс связан с таким понятием как «выстывание бытия». Бытие постепенно выстывает и выстывает и оно выстывает не равномерными вещами, но такими фазовыми переходами, и в принципе вот можно нащупать эти фазовые переходы. Примерно так, как мы их нащупываем, как сейчас считается, в истории Вселенной, которая от Большого взрыва до нашего состояния, тоже в ней происходят «выстывание бытия», партикуляризация, обретение вот этой множественности. И тут тоже намечаются эти фазовые переходы.
Я вот предложил такую вещь в этих фазовых переходах, отталкиваясь от Шпенглера. Дело в том, что все-таки у него одна очень плодовитая и плодотворная идея о культуре и цивилизации. Один из первых людей, который предложил понимать эти слова во временном контексте. То есть культура — это то, что предшествует цивилизации. Культура и цивилизация — как одни из таких периодов «выстывания бытия». Цивилизация – это нечто более изощренное, совершенное, множественное, рациональное, но тут вот теряется вот этот накал. У Шпенглера были два периода, две фазы — культура и цивилизация. Я просто предложил в свое время дополнить еще двумя фазами — то, что предшествует культуре, и то, что последует цивилизации. То, что предшествует культуре я предложил назвать «иконосфера», тогда мы получаем, значит, такой ряд: иконосфера — культура — цивилизация — и (последний, то, где мы сейчас пребываем) информация, информосфера. Вот эти фазы характеризуются соотношением или соотношением сознания с бытием. Значит, если мы возьмем иконосферу, она отличается тем, что сознание пребывает в бытии. Если мы возьмем культуру, то здесь она уже начинает сочувствовать и понимать бытие. В цивилизации происходит еще большее отстранение, и, в конце концов, мы видим вот в информосфере, где бытие просто нечто, о чем можно быть проинформированным.
Если мы возьмем эти периоды и попробуем их разместить в хронологической цепочке, то, конечно, период иконосферы — это все первое тысячелетие. Вот начиная с Христа и кончая первым тысячелетием. Это время Святых Отцов, время триумфального шествия церкви в мир, когда были созданы все церковные инструменты: и иконопись, и гимнография, григорианика, и византийское осмогласие. То есть был оформлен этот корпус. И конечно, основным действующим лицом тут был человек не просто религиозный, а монашествующий человек. Это и на Западе, Папа Григорий Великий, или как у нас он Григорий Двоеслов. Время, когда основную «продукцию» выдавали люди именно монашествующие. Их заботой было создать этот некий купол, некое единое пространство, в котором действительно пребывает человек. Если мы говорим о переходе от иконосферы к культуре, тут, конечно, есть такие катастрофические события, разделение церквей в 1054 году на Восточную и Западную. Здесь что надо еще упомянуть? Возникновение схоластики и Ансельм Кентерберийский, такой великий, тоже один из первых философов. Одно из его фундаментальных деяний это введение понятия «логического доказательства бытия Божия». Вот вы понимаете, в первом тысячелетии не надо было никакого логического доказательства бытия Божия, а здесь вот вдруг с человеком случилось что-то такое, что ему вот той полноты стало недостаточно. И это происходит не только вот в схоластике и #философии, тоже самое происходит и в музыке. Если мы говорим об этих явлениях, то именно здесь появляется многоголосие. То есть в первом тысячелетии человеку совершенно хватало одноголосного пения. Хотя, с другой стороны, мы можем опять сказать: да, это прогресс. Вот здесь вот появилась схоластика и великие эти вещи, Сумма Фомы Аквинского и тому подобные вещи, которые, если мы будем смотреть со стороны как бы нашей, то мы будем воспринимать это как прогресс. Но если мы будем смотреть со стороны тех людей, которые когда-то обладали этим преимуществом пребывания в Боге, прямо скажем, так, как Святые отцы, или Кассиан Римлянин, или великие подвижники египетские. Для них это, конечно, какой-то в общем упадок, это ущербность бытия образуется. И именно здесь возникают зачатки композиции. И здесь вот появляется первый композитор, опять-таки мы уже об этом говорили, Перотин Великий. И что здесь очень важно сказать — с чем связан этот переход? Весь первый вот этот самый иконосферный момент все-таки очень сильна была традиция устной передачи. По-настоящему знания могут передаваться только устно, то есть ступанием в след учителя. Устное общение с учителем. И тут в этом отношении, конечно, очень показательно деяние и то, что фундаментальное, опять-таки сделал Гвидо Аретинский, который изобрел такую нотацию, которую можно было уже без участия учителя. Опять-таки это, с одной стороны, прогресс, с другой стороны, с точки зрения вообще христианского уклада, это вообще очень странная вещь. Потому что практически это упраздняет институт учительства, аввы и духовного сына. Потому что письменность сюда очень сильно вбивает этот клин. Иконосфера и культура помимо всего прочего, еще отличается вот так — преимущественно устный способ передачи знаний и преимущественно рукописный. Следующий этап – это уже цивилизация, и, конечно, здесь вот эта картезианская революция, когда человек становится реальным только постольку, поскольку он имеет представления. В принципе, насколько это чудовищно с православной точки зрения, потому что, что мешает молитве? Помыслы. А что такое помыслы? Помыслы это и есть представление. Причем не важно, какие. Ведь помыслы могут быть и хорошие, и плохие. Но в процессе Иисусовой молитвы это то, что практически недопустимо, то, что разрушает сам вот этот молитвенный континуум. И получается так, что в какой-то исторический момент именно эти «представления», помыслы, они становятся основой общения с реальностью. И опять-таки, конечно, это уже какой-то следующий вид человека. И конечно, это связано уже не с рукописным, а с нотопечатанием. И наконец, последний этап — это информосфера, наверное, это то, что явно становится с конца 70-х, может, 80-х годов. Во-первых, тут еще появляются цифровые информации, это пультовые переключения, зэппинг, то, что сейчас происходит. Когда уже бытие — есть нечто такое, о чем мы можем получить информацию. Но не то, что мы переживаем, не то, что мы сочувствуем, что мы силимся понять, и уже не говоря о том, в чем можем пребывать.
RadioBlago: По мнению философа, предложенные им четыре фазы времени — иконосфера, культура, цивилизация и информосфера могут быть соотнесены с четырьмя основными кастами людей, которые были приняты в Индии.
Владимир Мартынов: В Индии существуют, как вы знаете, четыре основных касты — это брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Брахманы — это священники, которые занимаются только священными ритуалами. Кшатрии — это воины, цари-воины, которые оружием защищают законность существования. Вайшьи — это ремесленники, купцы, крестьяне, те, кто производит материальные ценности и обеспечивает их циркуляцию, значит, там и купцы, финансисты, и, наконец, шудры — это слуги. У них нет никакого другого призвания, кроме как прислуживать всем этим вышеперечисленным кастам. И вот, можно сказать, что вот эти четыре времени видим, что есть время брахманов, есть время кшатриев, есть время вайшьев и есть время шудр. То есть, это наше время шудр. Когда мы говорим о времени брахманов, то действительно, первое тысячелетие иконосферное возьмем, основные деятели этого времени — те, кто писал эти тексты, те, кто создавали эти архитектурные ансамбли, те, кто создавал эти системы певческие, григорианику, византийское осмогласие — все они были брахманы в том смысле, что они были связаны со священством. Это были монашествующие люди. Если мы говорим о времени культуры, то здесь время кшатриев, то есть воины. И мы видим сначала этих святых царей воинов, Людвига Благочестивого и тому подобных. Кстати говоря, кшатриев — это время крестовых походов. Дух царя воина, аристократа воина — это вот именно мы видим, что, в принципе, это все средневековье – и готическая архитектура, и литература, мы видим миннезингеров, и вплоть до Данте. Все это пронизано духом вообще-то кшатриев, конечно. То есть, вот этих воинов. Третье время — это время вайшев, то есть, когда действительно материальные ценности становятся гораздо важнее чести и какого-то аристократического достоинства, мы видим, что здесь вот выходит это третье сословие — купцы, финансисты, то есть те деятели, которые связаны с производством материальных благ и с обеспечиванием их циркуляции. Причем вот на протяжении этого этапа мы явно можем увидеть, как вот эта аристократия, вот это кшатрийство постепенно убирается со сцены. Я уж не говорю «Вишневый сад» какой-нибудь, там много примеров можно привести, сейчас не будем залезать. И кончается тем, что на смену времени кшатриев приходят шудры, то есть слуги. То есть никто. У них нету никакой идеи жизненной, как есть у брахманов, у кшатриев и даже у вайшев. Это вот просто такие, которые находятся в услужении и кроме этого ничего не умеют. Здесь вот появляется это потребительство и вот то, что мы сейчас имеем. Это я сейчас просто очень кратко сказал. И это совершенно не значит, вот допустим, что во время шудр не могут появляться люди с задатками кшатриев или брахманов, они могут появляться, они могут даже жить. Но все их начинания будут блокироваться. То есть они никогда не смогут реализоваться так, как они реализовывались в свое время. Они будут маргиналами. Поэтому самое нелепое, что может быть, это думать, что время равномерно и мы всегда можем написать великий роман, сделать великое географическое открытие, или великую симфонию написать. Нет, всему этому отпущено время. Опять-таки, понимаете, может быть, рождаются такие люди. Но иногда умирают. Вчера, вы знаете, Каравайчук умер. Тоже такой, наверное, последний спонтанный гений, такой ниагарский водопад. Так что вот я наметил эти четыре периода, и надо просто, подводя к этому вопросу, вся эта проблема, которую Кети сейчас затронула, она возникает в третьем и четвертом периоде.
RadioBlago: После такого развернутого вступления ведущая встречи решила переформулировать и конкретизировать свои вопросы к гостю. В частности, речь шла о роли современного искусства и художников авангарда в возвращении в до-композиторскую эпоху.
Кети Чухров: Два основных вопроса, которые мне не понятны и меня интересуют, это то, что вы говорите о том, что переживание — есть рождение субъекта, революционного субъекта, который выпал из бытия. И действительно, очень хороший пример. Если ты когда-то находился в бытии, тебе не нужно изображать бытие, потому что оно тебе дано, как благо и как дар. Ты начинаешь его, так сказать, вставлять в картинку, когда ты уже выпал. И это ваш аргумент, что изображать бытие, изображать реальность можно только, когда человек из нее выпал. Но при этом вы говорите, что вот этот выпавший классический субъект, «эго когитанс», что он есть субъект-субъект, который не понимает реальность. И вы, говоря, например, об авангарде, или о тех людях, которые выходили из опуса. Собственно, модернизм и авангард это целый процесс выхода из опуса, из композиции, из всей вот этой целой индустрии, что ли, создания института слушания, обозревания, рецепции, восприятия к некой вот такой вот опять попытке шагнуть в реальность. Но с другой стороны, занимаясь современным искусством, я могу сказать, что как раз именно этот процесс создания modernity (современность), или модернизма и contemporary, приводил к созданию наивысшей суверенности субъекта художника, когда Малевич, допустим, и есть сам себе вот этот субъект и объект одновременно. То есть, когда жест художника невозможен без сакрализации его имени. То есть вот эта вот сакрализация суверенного имени и суверенной субъективности художника. Это важнейшая вещь, собственно, в истории авангарда и в истории современного искусства, потому что в ней становится важной методология, стиль, создание субъектом некого медиума, а не передача, вот это переживание и передача содержания, которое заключено в реальности. И для меня вот этот парадокс, ведь эта ситуация скорее еще больше отдаляется от реальности, потому что мы знаем, что модернизм, он закрывает, или иконокластически разбивает реальность. Это зеркало, сквозь которую мы видели эту картину. Это делает и 4'33 Кейджа, закрывает эту фигурацию, музыкальную, уже тотально. Это делает и Черный квадрат. То есть, как тогда быть с этой идеей, что мы можем вернуться и шагнуть вот в это бытие в условиях авангарда. Что это за зона? Это зона, где мы можем вернуть вот это пребывание в бытие или все-таки это какой-то потребительский контекст обращения с реальностью. Потому что то, что мы видим в contemporary art, да, там тоже есть вот эта идея интервенции. Быть телом. То есть, например, в перфомансе очень важно быть вот этим сингулярным презенсом. Да, то, что мы говорим. Быть автопоэсисом, а не мимесисом. Не подражать, а быть без оригинала. И это скорее зона консьюмера, то есть, то, как существует современное искусство и вообще современность. Вот такой вопрос.
RadioBlago: Пропуская ряд важных и безусловно любопытных отступлений в речи Владимира Мартынова, мы остановимся на его словах, посвященных авангарду, модернизму, и в том числе одному из основателей дадаизма.
Владимир Мартынов: И первый авангард, и второй авангард, практически разрушил вот этот принцип композиции. Мы в прошлый раз говорили, каким образом разрушается партитура, как теряется вертикальная связь, потом горизонтальная связь. И там уже получается так, что Хаузен доходит до того, что в Семи днях партитура сугубо словесная, там просто описывается, что нужно делать. Это, конечно, конец господства принципа композиции. Наверное, последними такими скрупулёзными композиторами были, конечно, представители венской школы. Это, прежде всего, Шёнберг и Веберн, которые, действительно, композиторы, доведенные до максимума. Может быть, самый пик композиторства как такового. И, наверное, не случайно, что здесь господствуют и страх, и ужас, и страдание. И основное содержание вещей Шенберга – это страх в общем. Это единственное такое содержание. Но вот нас интересует другое дело, что все эти великие люди, и Малевич, и Дюшан, допустим, и Кейдж, они разрушили этот принцип композиции. Не то, что благими намерениями, это было единственно правильное решение, потому что это был возврат от вот этого переживания, вернуться опять к этому пребыванию, утраченному вот этому сакральному пребыванию в бытии. Каждый из них, собственно говоря, осуществил это теми способами, которыми осуществил. Или Черным квадратом, или Велосипедным колесом на табуретке, или 4'33. можно ли их назвать произведениями искусства в полном смысле? Конечно, это произведения искусства, но это нечто большее, чем произведение искусства, потому что практически каждая из этих вещей – это религиозная акция, которая направлена на то, чтобы привести человека обратно. Об этом, кстати, очень много писал Кейдж: «Я удивляюсь, почему люди слушают то, что в фонотеках у них, пластинки, а не могут выйти на улицу и слышать музыку улицы». Это очень напоминает то, к чему стремились, может быть, но другими средствами, эти средневековые и ренессансные композиторы. Но совсем когда-то было живо и религиозное переживание, и «жив Бог». Но что делать человеку в те времена, когда «Бог умер». Как попереть против этой констатации? И вот вещи Малевича, Дюшана, того же Кейджа отвечают на такие вопросы таким образом. Действительно, может быть модернизм и высокий модерн – это, может быть, самая высокая какая-то верхушка всех произведений и всех композиций, потому что это обнаженный крик боли. Практически там нет ничего кроме вот этой боли. И весь высокий модернизм — он как раз и есть вот этот вопль, даже, боли.
И конечно, понимаете, вот эти шоки, которые пережил человек в искусстве, а он их пережил не только в искусстве, но и в политически-социальной действительности. Потому что он пережил две мировых войны. В общем, самое чудовищное, действительно, они даже чудовищны не по количеству, а по отношению к жизни человека. И уже вот эта фраза: «Возможны ли стихи после Освенцима?» и так далее, они не совсем пусты. А вот может и невозможны. Но, во всяком случае, два вопроса остается. И, наверное, последние великие стихи, которые были написаны Паулем Целяном, который пережил весь этот ужас. В принципе, событие настолько ужасно, что искусство не имеет права тут быть, не имеет права его описывать. Понимаете, самая какая-то для меня постыдная вещь — это когда Шемякин начал иллюстрировать Архипелаг Гулаг. Это значит, что человек вообще ничего не понимает. Хотя каждый человек может по своему это понимать. То есть есть какие-то вещи, которые не подлежат искусству. И именно в 20 веке человек с ними столкнулся.
RadioBlago: В завершении дискуссии Кети Чухров вернулась к основной теме встречи — отказ от композиции, отказ от партитуры. Ведущая озвучила один из возможных модусов такого действия и привела конкретные примеры его развития в современном театральном искусстве.
Кети Чухров: Я перейду к вот этой идее демократического модуса отказа от композиции, котором я сказала. Это вопрос возник, когда у нас на лекции выступал известный куратор современного театра Флориан Мальцахер. Он как раз показывал какие-то примеры, где любой социальный перфоманс. Вот я против консервативного правительства. Я выхожу и читаю письма консервативных каких-то граждан. В меня кидают помидоры. Вот это современный театр. Или, вот допустим, перфоманс Шилденгера, где он выступал против такого праворадикального парламентария Хайдера, кажется. В общем, все эти модусы политического протеста становятся частью театра, а в театре происходит не постановка некой драматической коллизии, а перевод несуществующей демократической активности, которой не существует в обществе, и обществу она запрещена. Вот как редимейд в пространство театра. Такие дебаты демократические, это он называет агональною политичностью, или Агорой. То есть то, что происходило на греческой Агоре, обсуждение каких-то социально-политических вопросов, которые просто прямым образом переносятся в институт театра. И театр теперь должен перфомативно решать вопросы демократии и вопросы публичного пространства. То есть он позволяет публике осуществлять то, что называется social agency, political agency. И в таком театре не нужен актер, который как в театре Кабуки или Но, который должен там 20 лет выстраивать свое тело, не нужен исполнитель, как Бенедетти Микеланджело, 15 лет строит, как прикоснуться к клавиши и сделать звук. Это такие прямые действия, которые переносят все вопросы политического — миграции (там будут реальные мигранты), Лампедуза (там будут реальные жертвы Лампедузы), какие-то вновь случившиеся обсуждения, ЛГБТ-политики, и прочее, и прочее. То есть театр становится в некотором смысле народным парламентом, того парламентского голоса, которого у публики нет в условиях реальной политики. Там много перфомативности, там много виртуозности, там есть какие-то элементы импровизации. Но самое главное, что там присутствует, это отказ от вот этой подготовки. Отказ от партитуры, отказ от композиции. Собственно, отказ от искусства радикальной мейерхольдовской режиссуры, радикальной станиславской режиссуры, когда вы выстраиваете тело актера через вот это вживание, то, о чем мы сегодня говорили. То есть нет ни радикального формализма, ни нет ни радикальной вот этой реалистической традиции, а есть, в некотором смысле, вот это пространство переноса — то, что называется precarity problems, вот этой прикарности, вот этого повседневного пребывания гражданского общества в театральное пространство. И мы обсуждали, почему же нет композиции. Почему же нет текста. Почему же нет того, что актер должен повторить. И все говорят: ну, Брех уже отказался от этого текста, в который надо вжиться и повторить, Брехт отказался от катарсиса. То есть все эти вещи в театре модерна, допустим, они уже произошли. Но странным образом, когда мы возвращаемся вот к этой именно сакральной практике в театре. А совершенно очевидно, что Гротовский занимался вот этими очень внимательными и сакрализованными, очень долгими практиками воспитания актера, где путем очень долгой тренировки тела надо прийти именно к этой ситуации духовного. То есть из тренировки материи прийти к некой той «святости», которая может быть позволена вообще человеку, тут нужен огромный труд. Как раз вот этот труд души, работы с тем, что актер должен сообщить через композицию роли, через партитуру его исполнительской фигуры. То есть это можно назвать не композицией, а можно назвать подготовкой. Можно назвать, там, тренингом, можно назвать некой практикой. Но совершенно очевидно, что эта практика связана с какой-то очень долгой записью чего-то, что готовится. Репетициями, повторами. И это не просто ритуальные повторы, хотя они потом приходят к спектаклю как службе, может быть, не к богослужению, а к службе. Но вот это разделение как раз меня удивило, что здесь радикальный отказ от композиции связан с вот этой расширенной формой демократии, где произведение никому не нужно, драма никому не нужна, трагедия никому не нужна. История является всего лишь информацией, как вы говорите. Вот мы вас информируем, что есть такие-то, такие-то и такие-то проблемы в нашем обществе. И, напротив, в ситуации вот такой почти «религиозной службы», где актер уже становится в некотором смысле немного и «монахом», здесь как раз работает вопрос записи игры и записи партитуры.
RadioBlago: Владимир Мартынов ответил, что на его взгляд все не столь прямо, но основные тенденции обозначены верно. И сейчас в России есть режиссеры, которые работают в тех направлениях, о которых говорила Кети Чухров. Философ продолжил свои рассуждения в новом направлении и заметил, что кроме того в настоящее время следует говорить о недоверии к любому виду мастерства.
Владимир Мартынов: Вот в чем еще постмодернизм — уходит разделение высокого и низкого. Даже к любому высокому опять же недоверие как к чему-то излишне пафосному и, в общем-то, ложному. И с другой стороны, вот это неверие тоже неверие. Основное качество постмодернизма — это неверие в «великие метанаррации». То есть эти великие рассказы. А в эти рассказы входят Рассказ о Великом Художнике и о Великом произведении. Это то, во что мы не верим. И действительно, сейчас каждый художник. Вот эти снимки, которые были сняты в 2004 году во время этих цунами, там были снимки, когда человек снимал, успел послать и все, уже его не было. В общем, а что, какое произведение может с этим сравниться? Поэтому, конечно, неверие в Мастера и Мастерство, то, что он там что-то фальшивят... ему начинают сразу верить, если он получает большое количество денег. Тогда это понятно. Это, кстати говоря, да. Тут мастерство такое, и голливудское, это как раз комар носа не подточит. Дело в том, что в каком-то бродвейском спектакле минута изображения, минута этого шоу требует несколько недельных репетиций. Поэтому у них там все это отточено. Но опять-таки понятно, какое бы высокое мастерство ни было, оно мерится коммерческим успехом. Поэтому если этого коммерческого успеха нет, то вообще и говорить не о чем. И вообще сейчас, если у нас уже прозвучало такое слово как «успех», то сейчас это единственный критерий, да? Все не успешное даже не подлежит разговору, это лузеры. А успех измеряется деньгами. Естественно. А чем он еще может измеряться?
Кети Чухров: В общем, я хотела вот этот разрыв показать — отказа от композиции как вы описали как радикальный акт модерниста художника, и как я описала как вот абсолютно открытый такой ход отказа от труда композиции, в открытом демократическом обществе.
Владимир Мартынов: В этом смысле очень важен тоже Фредерик Джеймс. Вот говорит о разнице между модернизмом и постмодернизмом. То, что все-таки модернизм делали одиночки. Все-таки вот эти героические одиночки, которые испытывали эту нечеловеческую… В принципе модернизм никогда не был сколько-нибудь заметным анклавом, именно такие пики отдельно стоящие. Что касается постмодернизма, то тут скорее надо говорит о какой-то такой разлитой массе. Может быть, даже последние пики, я уж не говорю об Энди Уорхолле или Бойсе. Но вот то, что сейчас происходит там, их очень трудно назвать героическими одиночками, это герои вот этого глобального рынка искусства, вот этого мира искусства. И поэтому здесь тоже вопрос о мастерстве уже не стоит, поскольку он был снят в модернизме. Но здесь он еще перелицовывается на вот этот обязательный успех и денежный успех. Вот это тоже очень важно. Вот такой вопрос, чем отличается модернизм от постмодернизма. Потому что мы знаем, что судьба многих модернистских художников была отнюдь не радужной.
Кети Чухров: Это верное замечание, но я добавлю еще третий модус времени, это сonteporary, который выходит за рамки постмодернизма, потому что сейчас уже мало кто говорит о постмодернизме. Здесь возникает как раз вопрос актуальности и актуализации. И как раз вот этого политического и гражданского участия. И здесь успех измеряется не деньгами, а тем, кто владеет интеллектуальными и креативными средствами производства. И вот мне кажется, что этот новый модус, который я описываю, вот этой демократической всеобщности, которая относится к этому искусству, создавая усредненные не мастерские партиципаторные, такой модус для участия всего и всех.
RadioBlago: После окончания дискуссии зрителям в зале предложили задать свои вопросы выступающим, и один из вопросов подвел Владимира Мартынова к небольшому программному заявлению, на котором мы и закончим нашу программу. Слушательница спросила философа, каковы в настоящее время критерии качества наступления нового сакрального пространства и где эти критерии следует искать.
Владимир Мартынов: Мне кажется, сейчас вот ответить на этот вопрос невозможно, потому что мы живем в самом центре вот этого переходного периода, если это вообще переходный период, а не какой-нибудь худший вариант. Поэтому, к чему это все может привести, это все очень неожиданно. Понимаете, сейчас сам Хиггс, тот человек, который предсказал открытие этого бозона, практически не верил, что он доживет и зарыдал, когда стало вдруг это ясно. То есть даже человек, который сидит и занимается конкретным делом, то есть сейчас все так быстро меняется, что предсказать что-либо невозможно. Тем более невозможно предсказать то, что происходит, то, что называется сейчас искусством. Потому что, действительно, очень много тенденций, большинство из которых, конечно же, деструктивны в общем, деструктивные для качества, деструктивные с точки зрения человека как такового. С другой стороны, понимаете, сейчас есть масса людей, которые не видят в этом ничего деструктивного. Потому что, действительно, рождается новая общность человека. Те смартфоны, понимаете, мы получаем такое количество этих связей, общения, которых никогда даже близко не было. То есть сейчас легко в этом увидеть какие-то негативные, и мы видим, что вплоть до слабоумия и других разных вещей, сейчас не будем их так называть. Но, с другой стороны, вполне возможно предположить, что именно здесь рождается новая какая-то человеческая общность, качества которой можно будет осознать только тогда, когда она достигнет некого такого пика своего развития. И тогда, может быть, откроется что-то другое. Но тут уже надо говорить о совершенно новом виде человека, и действительно, может быть эту фразу еще раз повторить, что человек в нынешнем своем состоянии это тупиковая ветвь эволюции. Просто он не имеет даже права занимать то место, которое он сейчас занимает. Поэтому для того, чтобы выжить, надо эволюционировать. Причем это не просто какой-то новый человек, а принципиально новый человек. Сейчас вот должен быть совершенно такой вот переход, как в свое время был от палеолита к неолиту, то есть от человека не-говорящего к человеку говорящему. И невозможно из палеолита сказать, каким будет неолит. И мы сейчас из окончания этой «палеолитической революции» не можем сказать, каков будет этот новый «неолитический человек». Но он должен быть, на неком таком новом уровне.
Но это единственный выход, потому что у Кафки есть замечательный (ну, у него все замечательное) рассказа «Отчет для академии». Про обезьяну, ее поймали, посадили в неволю, повезли в Европу, и она поняла, что для того, чтобы вообще это плачевное состояние преодолеть, ей нужно превратиться в человека, притом не то, что человеком быть хорошо. Просто она освобождается от всех вот этих неудобств, в которые были погружены. И вот мне кажется, что сейчас человек, может быть, тоже находится в каком-то таком переходном виде. И все эти кризисные явления, о которых мы говорим. И действительно, человек просто, понимаете, человек сейчас в массе своей. Не хорошо так про людей говорить, но это в общем достаточно жалкое зрелище. Опять-таки, может быть, я не прав, потому что было время поэтов и художников, а теперь время портных и парикмахеров. Было время кшатриев, а сейчас вот время шудр. Но самое нелепое это ругать собственное время, хотя его есть за что ругать. Но просто дело не в том, что его ругать, а дело в том, что вот просто надеяться и пытаться, как эта лягушка, которая попала в кувшин с молоком, сбить это молоко в масло. Но опять-таки это какие-то химические и алхимические процессы должны происходить. И, конечно же, здесь нужны какие-то усилия обязательно. Уж не знаю, какие, душевные, или еще какие-то, и надо надеяться, что если эти усилия как-то осуществлять, то вот, несмотря на всю пагубность всего происходящего, а происходит сейчас, что называется ужас-ужас. Хотя в нем много удовольствий. И в каких-то странах много хорошей еды и хорошие бытовые условия, и культура даже в общем ничего, обеспечена. Но все равно, понимаете, в мире, где чуть ли не ежедневно сотни людей мрут от голода и происходит то, что происходит. Тем неприятнее положение тех людей, ну нас, нормально едим, нормально пьем, говорим по своим смартфонам и так далее. И в общем-то все это не хорошо и главное все это сказывается на результатах. Даже просто на художественных результатах. Качество художественное падает, мастерство падает, то, что сейчас из себя представляют отдельные виды искусства — это, конечно, кроме плача ничего не может вызвать. Но опять-таки не надо жаловаться. Просто, значит, вот это ход, который просто сужается, сужается. Но мы надеемся, что он со временем как-то опять начнет расширяться и должен нас куда-то вывести. Потому что если нет, тогда все бессмысленно. Но если мы живем, я думаю, что это уже дает нам какие-то надежды, что всегда усилия могут быть вознаграждены, а могут и не быть вознаграждены. Но вот этот вопрос награды это еще и вопрос усилий.
RadioBlago: На этом наша программа подошла к концу! Напоминаем, что все выпуски вы можете найти и переслушать, либо прочитать у нас на сайте по адресу: www.radioblago.ru в разделе «Время культуры». До встречи в лекционном зале и в эфире радио Благо!